Об уникальной черте индустриализации в Российской империи
Пол Грегори (США).
В виде приложения к опубликованной нами Полемике В.Ю. Катасонова и М.В. Назарова: нужна ли была революция для "индустриализации"? ‒ приводим несколько отрывков из исследования известного американского экономиста П. Грегори. ‒ Ред. РИ.
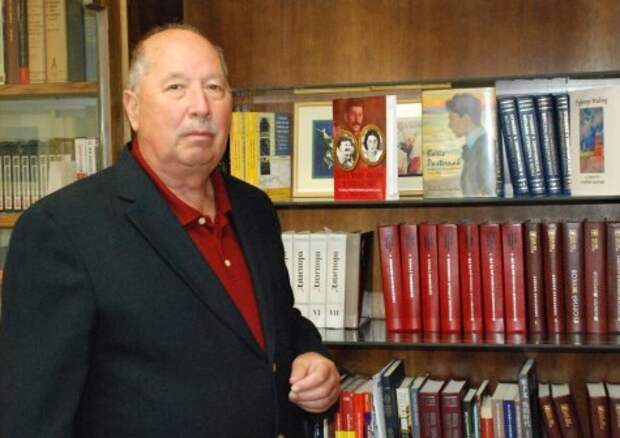
Экономические показатели развития Российской империи недостаточно изучались российскими учеными в советское время. Господствовало представление о том, что экономика царской России являла собой цепь провалов, что и стало причиной революции 1917 года. Такой «провальный» подход, возможно, и сейчас широко распространен среди историков, так как представляет очень удобный способ объяснить политические события того времени. Мое исследование, результаты которого изложены в этой книге, доказывает обратное.
Все расчеты были сделаны на основе материалов, хранящихся в библиотеках Западной Европы и США... Я полностью отдаю себе отчет в том, что использование материалов из российских библиотек и архивов позволило бы добиться лучших результатов. Так как в книге полностью представлена методология моих расчетов, я надеюсь, что российские ученые смогут их уточнить.
Идея публикации этой книги на русском языке принадлежит моему ныне покойному другу и коллеге Валерию Ивановичу Бовыкину. Именно он настоял на том, чтобы были опубликованы все методологические приемы, которые я использовал при расчетах, так как считал это очень важным для российских специалистов. Будучи поклонником великих российских экономических историков, многие из которых оказались жертвами сталинских репрессий, Валерий Иванович очень хотел, чтобы российское научное сообщество имело как можно более объективную картину экономического прошлого своей страны. ..
Изучение российской экономической истории, как и других отраслей экономической науки, находится под сильным влиянием моделей, которые интерпретируют сложные явления, сосредотачиваясь только на наиболее важных объясняющих факторах.
В XIX в. русские «западники» предложили модель «отсталой» российской экономики, требовавшей вестернизации и иностранных капиталов для развития. «Традиционалисты», или славянофилы, представили иную модель экономики России — с внутренними источниками развития, такими как традиции крестьянского хозяйства и «крестьянские фабрики», которые, в конце концов, позволят России развиваться за счет собственных ресурсов без помощи и влияния Запада...
Ленинская интерпретация экономической истории России, представляющая картину кризиса капитализма, привлекала внимание историков и на Востоке, и на Западе. Исследователи русской истории и на Западе, и на Востоке прежде всего пытались объяснить, почему произошла российская революция. Если она произошла в соответствии с марксистской диалектикой, то внутренние кризисы должны были бы характеризовать последние стадии капитализма. Следовательно, российская история должна была быть историей кризисов — аграрных, политических, экономических депрессий и крахов биржевых рынков...
Ленинская модель на 60 лет определила тематику исследований для советских историков. Позитивным влиянием Ленина был его интерес к реальным данным — классовой структуре, уровню концентрации производства в промышленности и т.п. Негативное влияние ленинской концепции состояло в том, что она ставила исследователей в жесткие рамки, требовала от них использовать анализ экономических фактов для объяснения политических событий. Она также ограничивала российских исследователей в том смысле, что они должны были изучать экономические проблемы строго в рамках марксистских схем.
На западных ученых тоже оказало влияние похожее направление исследований, которое настаивало на том, чтобы экономический анализ объяснял политические события. Александр Гершенкрон применил свою модель относительной отсталости к России для объяснения революции 1905 г. Модель Гершенкрона рассматривает Россию как типичного представителя поздней индустриализации, техническими новшествами заменявшего отсутствующие предпосылки, такие как формирование национального капитала, недостаток среднего класса или квалифицированных рабочих, с целью вызвать быстрый промышленный рост после 1880 г. Неудача попытки создания частного рыночного сельского хозяйства ограничивала российский экономический рост и привела к тому, что крестьянский класс рухнул под тяжестью своих долгов в 1905 г. И только после 1905 г. ошибки, совершенные при освобождении крестьян, были исправлены столыпинскими реформами, однако время было уже упущено, и слабая экономика царской России оказалась неспособна устоять в Первой мировой войне.
Две наиболее известных модели российской экономической истории имеют одну общую черту: обе они стремятся определить уникальные особенности экономического развития России, которые создавали условия для определенных политических событий... По Ленину, провал российской экономики был неизбежен из-за открытых Марксом сил общественного развития. Для Гершенкрона ее неудачи были следствием политических ошибок, которые находились в процессе исправления.
Модели — это мощные орудия. Они формализуют верифицируемые гипотезы. Они дают толчки к координации исследований. В СССР идеологические ограничения затрудняли обсуждение ленинской модели российской экономической истории. На Западе не существовало ограничений на проверку модели Гершенкрона, и многие из ее положений, требующих доказательств, оказались неверными...
Часто исторический анализ опирается на единичные свидетельства, используя то, что в основном является микроэкономическими фактами. Единичными источниками могут быть и описания путешественников, и бухгалтерские книги отдельных крестьянских хозяйств или заводов, беллетристические рассказы о деревенской или фабричной жизни, бюджетные обследования российских крестьянских семей, проводившиеся местными органами власти (земствами) в конце XIX века...
Есть несколько причин, по которым опасно делать обобщения на основе единичных свидетельств. Во-первых, они концентрируются на крайностях. Жизненные стандарты русских крестьян в XIX в. различались в зависимости от региона, семьи, форм собственности и множества других факторов. Фактически существовало статистическое распределение жизненного уровня русских крестьян. Маловероятно, что в то время газеты и литературные описания крестьянской жизни концентрировались на типичном среднем крестьянском хозяйстве. Скорее, их привлекали беднейшие крестьянские семьи.
Во-вторых, единичные свидетельства не описывают долговременные тенденции. Выдающиеся или катастрофические события (например, голод) оставляют более продолжительное впечатление, нежели обыденные явления...
Несмотря на богатство первичной статистической информации, заключение о провале царской экономики было сделано без рассмотрения даже таких самых основных показателей экономического развития, как рост объема продукции или рост производительности труда. Разделяемый многими вывод о том, что после освобождения крестьян Россия 40 лет испытывала аграрный кризис, сделан даже без серьезного изучения объема сельскохозяйственного производства на душу населения. Многочисленные финансовые кризисы в последние годы царизма считались признаками грядущего краха, при этом глубокого анализа реальных тенденций деловой активности не проводилось.
Состояние экономики
Насколько успешно функционировала экономика царской России в свои последние тридцать лет? У нас нет единых стандартов для оценки состояния национальной экономики. Нам доподлинно известно лишь то, что экономического успеха удается добиться только ограниченному числу стран — промышленно развитому миру, который насчитывает не более 20% населения земного шара.
Экономическое состояние любой страны необходимо оценивать с учетом соответствующего исторического контекста. Подходящим стандартом для оценки экономики царской России будут показатели уровня ее экономического развития в конце XIX — начале XX в. относительно промышленно развитых стран. Как работала российская экономика в сравнении с экономикой стран Запада?
Исследователю часто грозит опасность «не разглядеть за деревьями леса». В квантитативной экономической истории «лес» «лучше виден», если для анализа состояния экономики взяты два далеких друг от друга момента времени. Перемены, малозаметные в короткие временные отрезки, не могут оставаться незамеченными на протяжении четверти или половины столетия. Кроме того, ошибки и неточности в исторических данных играют менее важную роль, когда используются две удаленные точки отсчета.
Для царской России такими подходящими точками отсчета являются 1861 г., год освобождения крестьян, и 1913 г., год наивысшего подъема ее экономики.
1861 г. застал Россию накануне главной социальной реформы — освобождения крепостных. Этот год предшествует и началу широкого строительства железных дорог в Российской империи — событию, которое некото рыми исследователями приравнивается по важности к освобождению крестьян.
Два временных среза российской экономики, разделенные почти пятьюдесятью годами, свидетельствуют о переменах, произошедших с момента вступления России в современную эру до начала Первой мировой войны...
К середине XIX в. Западная Европа и Британская империя имели 50‒100 лет опыта «современного экономического роста». Благодаря непрерывному росту производства на душу населения, континентальная Европа и Англия достигли беспрецедентного уровня изобилия; превращение аграрной экономики в индустриальную завершилось. Крестьянин больше не был основным производителем благ, им стал промышленный рабочий. И уровень рождаемости, и уровень смертности в процессе демографических изменений понизились, освобождая индустриальные страны от мальтузианских проблем перенаселения и недостатка средств к существованию. В 1861 г. Соединенные Штаты стали ведущей экономической державой мира.
Россия накануне Первой мировой войны была одной из основных экономических держав. Она стояла на четвертом месте среди пяти крупнейших промышленно развитых стран (Falkus M.E. The Industrialization of Russia, 1700—1914. London and Basingstoke: MacMillan, 1972. P. 11—19; Crisp О. Studies in the Russian Economy Before 1914. London: MacMillan Press, 1976. Essay 1). Российская империя выпускала почти такой же объем промышленной продукции, как и Австро-Венгрия, и была крупнейшим производителем сельскохозяйственных товаров в Европе.
Наиболее поразительное различие между Россией и индустриальными странами было в несоответствии между совокупным объемом производства, который явно определялся ее огромными размерами, и относительно низким уровнем производства в расчете на душу населения.
В 1861 г. по численности населения Россия в 2 раза превосходила ведущую в этом отношении страну в Европе и Северной Америке — Францию, а в 1913 г. население России было в 3 раза больше населения ее крупнейшего соседа — Германии. В 1913 г. единственной страной, которая могла соперничать с Россией по численности населения, были Соединенные Штаты Америки, где население составляло чуть более половины российского... В 1913 г. Российская империя имела доход на душу населения, составлявший 50% немецкого и французского, одну пятую английского и 15% американского. ... [Это очень важное замечание следует также дополнить указанием на то, что в состав населения огромной Российской империи входили многие отсталые народы, не затронутые западной экономической "цивилизацией", однако подсчет производства на душу населения распределялся и на них. Если же учитывать только население европейской части России, то цифры были бы выше. ‒ МВН.]
Рост населения в России был самым быстрым в Европе и даже приближался к высокому, поддерживаемому иммиграцией, уровню численности населения Соединенных Штатов. Только в Германии и Швеции рост национального дохода был равен росту российского национального дохода или превосходил его. Но сочетание быстрого роста объема производства и исключительно высоких темпов роста населения сводило на нет рост производства в расчете на душу населения...
Однако в сельском хозяйстве положение России по показателям на душу населения было относительно более привлекательным, чем в промышленности. Производство зерна на душу населения в России в IS61 и 1913 гг. почти равнялось австро-венгерскому, тогда как производство промышленной продукции на душу населения составляло в 1913 г. одну вторую от производства в Австро-Венгрии. Успехи в экспорте продуктов земледелия также демонстрируют, что Россия обладала относительным преимуществом в сельском хозяйстве.
Уровни детской смертности и смертности населения в России в 1861 г. незначительно отличались от показателей Германии, Италии и Австро-Венгрии десятилетием раньше... Этот показатель в 1913 г. едва ли был ниже, чем почти 50 лет назад. Россия с ее суровым климатом, высоким уровнем неграмотности и малой доступностью медицинской помощи оставалась неблагоприятным местом для новорожденных...
Показатели роста ставят под сомнение преждевременные заключения о провале экономики царской России. Промежуток с 1861 г. по 1913 г. включает продолжительный период замедленного развития (1861‒1880 гг.), поэтому темпы роста в «современную эпоху» (1880-е гг. ‒ 1913 г.) еще более сравнимы с европейскими... [Данные по десятилетиям с 1861 г. по 1913 г. см. в: Gregory P. Economic Growth and Structural Change in Tsarist Russia: A Case of Modern Economic Growth? По Раймонду Голдсмиту, уровень экономического роста в период 1860—1880 гг. составлял 2% в год, примерно две трети от уровня экономического роста после 1880 г. (Goldsmith R. The Economic Growth of Tsarist Russia, 1860—1913 // Economic Development and Cultural Change. Vol. 9. № 3. April 1961. P. 443)]...
Показатели роста совокупного продукта в России вполне можно сравнивать со средними долговременными показателями роста индустриальных стран между 1850 и 1914 гг. Действительно, только США, Канада, Австралия и Швеция по темпам экономического роста не отставали от России или превосходили ее, однако она опережала две другие страны «поздней индустриализации», Японию и Италию. По уровню экономического роста Россия была схожа со странами, далеко опередившими всю Европу, за исключением Швеции и Дании, Северной Америкой и Австралией, где наблюдался быстрый рост населения за счет иммиграции и высокого уровня естественного прироста. Но в России быстрое увеличение населения было вызвано высоким уровнем рождаемости, поскольку в этот период она имела отрицательный миграционный баланс...
Уровень роста производства на одного работника (1,6%) в России был близок к среднемировому. Среднее количество рабочих часов на одного наемного рабочего в описываемый период, как правило, уменьшалось. Таким образом, общее количество рабочего времени росло медленнее, чем численность населения. Однако невозможно установить, каково было положение России по этому показателю в сравнении с другими странами....
При рассмотрении «развитого» периода российской индустриализации обращает на себя внимание неожиданный вывод о том, что по среднему уровню экономического роста Россия выдерживает сравнение с другими странами во время их «развитого» периода. Российская экономика росла так же быстро, или даже быстрее, чем британская, германская, норвежская и итальянская, но заметно медленнее, чем экономика США, Канады, Австралии, Японии, Швеции и Дании, стран, которые пережили короткие периоды исключительно быстрого экономического роста...
«Развитой» период экономического роста занимает в России более короткий промежуток времени (12 лет), чем в других государствах, и, следовательно, российские показатели роста в это время нельзя напрямую сравнивать с подсчетами С. Кузнеца для «развитого» периода экономик других стран. Тем не менее можно заметить, что российский уровень экономического роста в «развитой» период (который приходится в основном на 1890-е гг.) превышает аналогичные показатели всех остальных стран, исключая США. По показателям экономического роста в расчете на душу населения Россия в «развитой» период находилась на уровне стран с самыми высокими темпами развития (США, Япония, Швеция)...
Первая мировая война, а затем 1917 г. прервали этот рост. ...
Распределение конечных расходов
Признанной целью экономической политики царизма в годы индустриализации было поднятие уровня капиталовложений выше обычного для страны с низким доходом путем привлечения иностранных инвестиций и увеличения внутренних накоплений. В соответствии с гершенкроновской моделью «азиатского» развития России, высокий уровень внутренних накоплений должен был быть достигнут главным образом за счет сильного снижения жизненного уровня деревни. Характерными чертами «азиатской» модели являются высокий уровень инвестиций и низкий уровень потребления при низких показателях экономического развития...
Определенные признаки «азиатского» пути можно наблюдать как в «ранних», так и в «поздних» данных по России. В «ранний» период по уровню чистых капиталовложений Россия (7,8%) уступала только Германии, США и Австралии, странам с наиболее высоким доходом на душу населения. Другой развивавшейся по «азиатскому» пути экономикой была японская, где чистый объем инвестиций был примерно равен российскому, несмотря на более низкий доход на душу населения. Однако в Японии часть (15%) чистых капиталовложений была профинансирована за счет иностранных средств, тогда как в России на протяжении всего «раннего» периода инвестиции финансировались за счет внутренних накоплений.
Для страны с относительно маленькими доходами уровень личного потребления в России в «ранний» период был исключительно низким — 84%. В аналогичной стадии страны с гораздо большими доходами сохраняли потребление на уровне почти 90% от всех доходов. И лишь самые богатые имели структуру расходов, близкую к российской.
Другой отличительной чертой «азиатской» модели в этот «ранний» период являлась высокая доля правительственных расходов. В России доля правительства в окончательных расходах (8%) была выше, чем во всех странах, о которых имеются данные. Поскольку расходы российского правительства шли в основном на оборону и управление, а не на здравоохранение и образование, Россия соперничала с более развитыми странами в военной области, а российская бюрократия достигла значительных размеров.
«Азиатские» черты «раннего» периода стали еще более заметными накануне Первой мировой войны. Уровень капиталовложений в России теперь уступал только германскому и почти сравнялся с американским. Однако по уровню внутреннего накопления Россию превосходили сразу несколько стран, так как к «позднему» периоду она стала крупнейшим международным заемщиком. На протяжении начального периода (в годы подготовки к введению золотого стандарта) Россия полностью финансировала капиталовложения с помощью внутренних накоплений. К концу периода внутренние инвестиции начали финансироваться и за счет иностранных источников.
Трудно установить, играл ли иностранный капитал в России исключительную роль, поскольку недостаточно данных о роли иностранного капитала в других странах. Если судить по опыту стран с меньшим импортом капитала (скандинавские страны, Канада, Австралия, Япония и, в «ранний» период, США), показатели России, где валовые иностранные инвестиции составляли до 20% внутренних накоплений, не выглядят необычными. Однако мы не в состоянии определить «нормальный» поток капитала, а отношение иностранных средств к общему объему производства обратно коррелирует с размером страны. Российская экономика была очень крупной, поэтому возможно, что поток иностранных инвестиций в Россию на самом деле был исключительно большим... [С точки зрения Джона Маккея (McKay J. Pioneers for Profit: Foreign Entrepre-neurship and Russian Industrialization. Chicago: University of Chicago Press, 1970), действительно уникальной чертой российской индустриализации была ее опора на сочетание отечественного частного предпринимательства, иностранного капитала и иностранного предпринимательства. Обзор литературы по вопросу о факторах, определяющих движение капитала см. в: Spitaller Е. A Survey of Recent quantitative Studies of Long-Term Capital Movements // International Monetary Fund, Staff Papers. Vol. 18. March 1971. P. 189—217. Свидетельства об отношении между движением капиталов и экономическим развитием см. в: Kuznets S. Modern Economic Growth. P. 236—239.]...
---
Отрывки из исследования: Пол Грегори. Экономический рост Российской империи (конец XIX - начало XX в.): Новые подсчеты и оценки. М., 2003 ‒ http://ekonomicheskiy-rost.blogspot.com/
Пол Родерик Грегори (Paul Roderick Gregory; род. 10 февраля 1941, Сан-Анджело, Техас) — американский экономист, профессор Хьюстонского университета, научный сотрудник Гуверовского института и Немецкого института экономических исследований в Берлине, специалист по экономической истории России и СССР.
Издания на русском языке:
Пол Грегори. Почему развалилась советская экономика // Вестник Европы, 2014, № 38-39.
Пол Грегори. Политическая экономия сталинизма = The Political Economy of Stalinism. — М.: РОССПЭН, 2008. — 400 с.
Пол Грегори. Экономический рост Российской империи = Главы из монографий «Russian National Income. 1885-1913» и «Before Command: An Economic History of Russia from Emancipation to First Five-years Plan». — М.: РОССПЭН, 2003. — 251 с.
Ольсевич Ю., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования СССР. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000. — 159 с.
Пол Грегори. Поиск истины в исторических данных // Экономическая история. Ежегодник, 1999. — М.: РОССПЭН, 1999. — С. 471—500.
Свежие комментарии